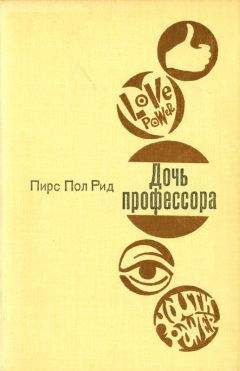Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]
Всех привел в сознание спокойный, будто бы даже со смешинкой, голос Артема Соколюка:
— Тю, невидаль! Перепил парень — за кем нет греха!
Он, видно, понял что-то, хмель с него как рукой сняло. Взял Василька в свои могучие клешни и понес, раздвигая толпу, — лицо налилось кровью от тяжести.
Он положил Василька в комнатушке с входом из сеней, чтобы не привлекать внимания еще шумевших в хате дядьков, и остался с ним, выпроводив и всхлипывающую Настю, и Зинаиду Тимофеевну, и перепуганных жениха с невестой. Вышел, сказал с деланным спокойствием:
— Нехай спит, перемелется — мука будет.
Неуютную пустоту застала Марийка в хате. Сбитые для свадьбы столы Артем еще ночью вынес во двор, расколотил топором, доски аккуратно сложил за сараем. Неприкаянно бродила Настя, подошла было к комнатушке, где спал Василек, стала звать его к завтраку, он буркнул, чтобы оставили его в покое. Тетя Поля с мамой сидели на ослоне, тихо переговариваясь, из-за ситцевой занавески, отгородившей от хаты запечный куток, где было им постелено, вышли молодые. Марийка видела: брачное ложе не принесло княгине и князю долгожданной радости — у всех, и у них тоже, на уме был Василек. Юная жена взяла прислоненный к печи веник, стала мести хату; на ночь женщины стелили себе солому, она была вынесена, и тетя Дуня еще раненько подмела — просто молодая на могла найти себя в тягостной пустоте…
И тогда мама начала просить Марийку, чтобы она пошла к Васильку, и Настя, и тетя Поля просили, они тянулись к ней просящими глазами, и в Марийке глухо шевельнулось подозрение на то, о чем сказала ей вчера Ульяна. Уж не просватывают ли ее за Василька? И мамина резкость к нему, когда он поднес Марийке каравай с шишкой, не просто ли укор за излишнюю поспешность?
Она вышла в сени, снова поражаясь тому, как спокойно и точно работал ее рассудок, постучала в молчащую дверь.
— Это я, Василек, открой.
Комнатушка, с давно не беленными стенами, была погружена в сизый дым, табачная гарь ела Марийке глаза. Василек сидел на топчане, на голом матраце, накинув на плечи шинель, по осунувшемуся серому лицу Марийка поняла, что он не сомкнул глаз за ночь, только курил и курил… С безотчетной жалостью ощутила она одиночество Василька в этой настывшей за ночь, сумрачной от папиросного дыма, неприбранной комнатушке, и с трудом выдержала его полный мольбы взгляд.
Она не могла ошибиться и не ошибалась: Василек молил ее о любви… Милый, хороший Василек… На мгновение она услышала в себе слабое ответное движение, но иная мощная волна заглушила его. Она слишком дорого заплатила за свое место в жизни, и обретенная ею независимость восстала против ее чувства… Милый, дорогой Василек… Прости ей принесенные тебе страдания, ведь и она страдает не меньше, чем ты. Она много жертвовала и теперь снова пойдет на жертву, может быть самую тяжелую, только, как сладкое мгновение юности, оставь ей железный грохот вагонного тамбура…
Стоя на коленях, она обняла его ноги — теперь он был для нее тот, из детства, Василек, и ничто не стесняло ее с ним, она заглядывала ему в глаза, по-сестрински улыбаясь, и сама была совсем маленькой девочкой из домика на Соляной; она возвращала ему его старшинство, которое он было утерял. Василек это понял, молчал, гладя ее спину.
— Я хочу тебе кое-что подарить. — Он отстегнул пуговицу кителя и стал рыться в кармане. Сердце у нее защемило от далекой, знакомой интонации его голоса, так он говорил, когда приносил ей переводные картинки или конфеты. — Вот, смотри… Всю войну берег этот снимок.
Боже мой! На небольшой, плохо проявленной, затрепанной по краям фотокарточке был весь дворик: и папа, и мама, и тетя Тося с Зосей, и даже мать-Мария с матерью-Валентиной, а в центре возвышался огромный дядя Ваня в тельняшке и в бушлате, а на шее у него, свесив ему ножки на грудь, сидела Марийка — она замерла с раскрытым от восторга ртом и высоко, под самый обрез снимка, вскинула руки: смотрите все, она не держится! Это был у нее с дядей Ваней такой номер, она не раз проделывала его на своих представлениях, когда ее оставляли с ним.
Марийка тискала Василька, чмокала его в щеку — он тоже освобождал, отпускал ее!
И в это время сени огласились голосами и смехом девчат. Они потопали сапожками, оббивая приставший снег, и запели веселую песню: не журись, молодая жена, подружки не забыли тебя. Есть что поставить на стол в первый день долгого века замужества!
— Иди к ним, — сказала Марийка.
— А ты?
Она расстегнула пальтишко, отвернула борт своего костюмчика и спрятала фотокарточку под распоротую подкладку. Поправила на голове тети Дунину хустку.
— Пойду погуляю. На речку хочется…
Он долго глядел ей в лицо, синие глаза его обволоклись прощальной улыбкой. Прижал к себе Марийку и тут же отпустил.
— Иди…
— И ты иди…
Василек сбросил шинель и вышел к девчатам. Так, в группе девчат, ступил в хату. Марийка увидела мельком, как просветлело лицо мамы, как Настя, еле поверив в чудесное исцеление брата, пошла к нему, готовая разрыдаться от счастья.
Во дворе Марийка встретила Ульяну и почему-то подумала: она, именно она должна сейчас быть вместе с Васильком.
— Куда ты? — спросила Ульяна.
Марийка улыбнулась ей, будто подвигала на что-то.
Она узнавала и не узнавала речку и луг; непривычно голая белая гладь, исскольженная ребятишками, сиротливая хрупкость обледенелых верб вошли в необременительную связь с ее настроением. Она медленно шла по берегу, и время как бы соединилось в ней, отдаваясь то тихой радостью, то слабой болью.
Вот от этого бережка девчата пускали венки по воде, и наивный душевный трепет, испытанный Марийкой в теплый летний вечер с серпиком месяца в вышине, снова пришел к ней издалека, она приняла его в себя, чтобы хранить дальше дни и годы.
У нее было такое чувство, будто она отправляется в далекий неведомый путь, и ее память должна унести отсюда все — и озябшие на морозце вербы, и этот берег со снежком, проткнутым ржавыми иглами травы, и луг — там, в спутанной и засыпанной снегом траве стынут ее копанки: они ничего не сказали ей тогда, и сейчас она благодарит их за то, что не смутили ее детское сердце преждевременным прозрением, все пришло в свой срок — и слава богу…
Так, идя по берегу, она достигла большой проруби, отороченной глыбками расколотого льда. Еще вчера, наверное, женщины полоскали здесь белье, за ночь закрайки подернулись тонким стеклом, но вся середина темно, безмолвно ходила кругами, по живой темной глади, тоже кругами, пробегали скупые дымки.
Марийка долго смотрела на воду, гипнотически тянувшую ее к себе, и, содрогнувшись, подумала, как холодно сейчас в темной глубине Кате Витрук.
Сознание Марийки затмило мгновенное воспоминание о страшном дне Сыровцов, но она, зажмурив глаза, чтобы не видеть темную, зовущую воду, гнала от себя нахлынувшее наваждение…
Этого она не хотела брать с собой в дорогу. Она возьмет другие, родные ей Сыровцы! Поборов в себе смутную силу, приковавшую ее к проруби, она, с еще зажмуренными глазами, пошла от реки, и, когда осторожно расслоила веки, большой белый свет хлынул на нее, и все было так, как ей хотелось: за проступающими сквозь снег серыми грядами огородов, за неразберихой надворных построек и тынов высоко стояло село — в легких, кудрявых дымах, в оснеженных осокорях, увенчанных бело-малиновым огнивом солнца.
Открывшаяся перед ней картина так захватила ее, что она не сразу заметила одинокую, торопящуюся женскую фигурку, а когда заметила, сразу узнала маму — она бежала через огороды к реке, неловко балансируя руками, чтобы не упасть на скользкой тропке, белые облачка разгоряченного дыхания отлетали от ее лица… Вот теперь тетя Поля все рассказала ей. Ну что ж, так и должно было быть, все теперь позади, и к ней, в огромном сиянии дня, идет ее мать. Что-то такое, чего она никогда не испытывала, с властной теплотой и сладостью заполнило Марийку.
— Доченька! — услышала она срывающийся родной голос.
— Мама! — выдохнула Марийка и побежала ей навстречу.
Рассказы
Да или нет, Василек?
Ах ты боже мой, какая сила оказалась в этой давней, любительской, серой, без глянца, фотографии.
Небольшой листик. Застывшее мгновение молодости. Сколько лет ты шло ко мне, чтобы полоснуть по сердцу грустью от невозвратимости прошлого…
На карточке нас трое — Серега Сибирцев, живой, крепкий, со светлым своим чубом, с бедовой своей улыбкой, полон рот зубов, я и она, Василика, или Василек — так на русский манер звали мы ее в лирические минуты. Глаза у нее и вправду были синие, они играли на юном загорелом лице, и сама она была тонкой, но не хрупкой стати, и чем-то тоже напоминала прокаленный солнцем цветок наших полей.